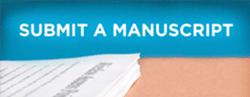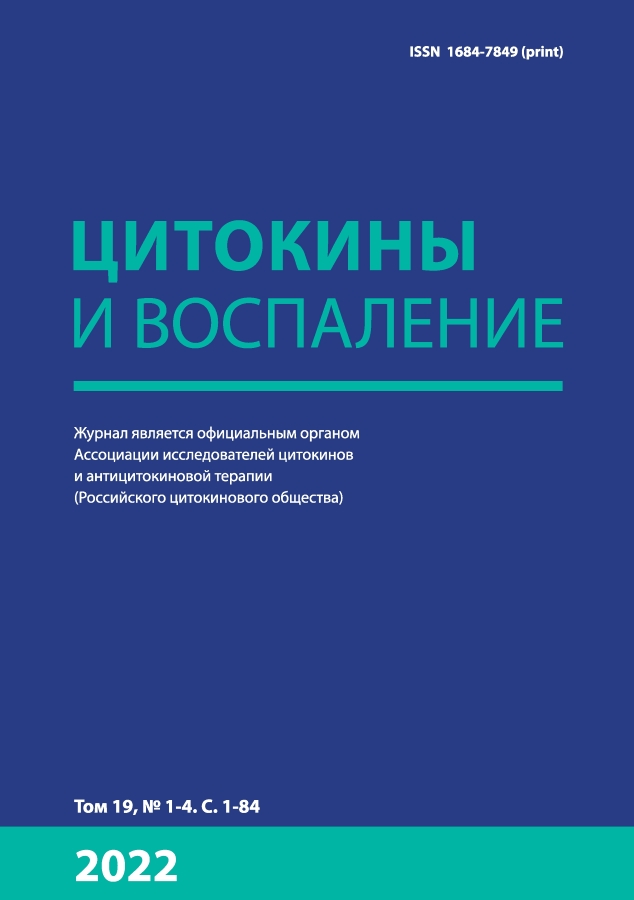Immune response in neuroinflammatory caused by mild traumatic brain injury (experimental study)
- Authors: Rad’kov I.V.1, Plekhova N.G.1, Zinoviev S.V.1, Shumatov V.B.1
-
Affiliations:
- Pacific State Medical University
- Issue: Vol 19, No 1-4 (2022)
- Pages: 54-60
- Section: Articles
- URL: https://cijournal.ru/1684-7849/article/view/623112
- DOI: https://doi.org/10.17816/CI2022221-4-9
- ID: 623112
Cite item
Full Text
Abstract
The study of the organism immune response in mild traumatic brain injury (mTBI) is an important stage in the formation of a scientific understanding of this type of brain damage. The purpose of the study: to research of the systemic immune response parameters in the experimental modeling of mTBI. The cellular composition and phenotype of immune cell subpopulations were assessed, and the content of pro- and anti-inflammatory cytokines in the mTBI and blood serum of injured rats was determined. A high content of leukocytes and interleukin 6 (IL 6) in the blood was found 2 hours after the injury. The number of cytotoxic T-lymphocytes and B-lymphocytes increased with a decrease of the neutrophils, monocytes, eosinophils and T helpers number one day after mTBI. During the indicated periods of observation, an increase in the content of cytokines TNFα and IL 6 in the cerebrospinal fluid and blood serum was observed, and the indicators of anti-inflammatory IL 10 increased 7–14 days after mTBI. On the 14th day after injury, the level of stab neutrophils remained low, while the number of CD45, CD3, CD20, and CD8 positive lymphocytes continued to increase, which indicates the progression of the inflammatory response. Thus, after the application of mTBI, an inflammatory reaction develops, accompanied by the manifestation of the activity of immune components. Cytokines are registered in the peripheral circulation and cerebrospinal fluid, the number of B-lymphocytes and cytotoxic T-lymphocytes increases.
Keywords
Full Text
Сотрясение при легкой черепно-мозговой травме (лЧМТ) запускает каскад биомолекулярных изменений в головном мозге, инициирующих реакцию иммунных клеток [1, 8, 13]. На экспериментальных моделях показано, что нейровоспаление в головном мозге при лЧМТ включает активацию иммунных (особенно микроглии) и неиммунных клеток и продукцию ими различных медиаторов, включая цитокины [6, 12]. Инфильтрация цитотоксическими Т-лимфоцитами и нейтрофилами очага повреждения головного мозга отмечается до 24 часов, а повышение содержания макрофагов микроглии через 7 дней после травмы. В крови экспериментальных животных в острый период (2-3-и сут. после травмы) снижается уровень CD3 позитивных Т-лимфоцитов и Т-хелперов, в то время как показатели цитотоксических (CD8+) и В-лимфоцитов повышаются [2]. Адаптивный иммунитет включает каскадную активацию и экспансию Т- и/или В-лимфоцитов, нацеленных на специфические антигены, в том числе белки нервной ткани, формируя память о предыдущем воздействии антигена, позволяющую целенаправленно, интенсивно и быстро реагировать на будущие стимулирующие вызовы [12, 15, 16]. Показана периферическая активация Т-клеток, а именно повышение количества цитотоксических CD8+ Т-лимфоцитов через 3 дня после интрацеребральной инъекции белков нервной ткани и наличие аутореактивных Т-клеток при травмах центральной нервной системы [9].
При повреждении головного мозга происходит выделение клетками патоген-ассоциированных молекул (DAMPs), связывание которых с Toll-подобными рецепторами приводит к активации микроглии и ее резидентных макрофагов. В нервной ткани отмечается синтез этими клетками интерлейкинов (ИЛ-1β, ИЛ-6) и фактора некроза опухоли ФНОα, а астроцитами – ИЛ 1β [4]. Однако воспаление не ограничивается изменениями клеток нервной ткани, и установлено, что в сыворотке крови травмированных мышей отмеченное повышение содержания ИЛ 6 коррелирует со степенью тяжести ЧМТ [5]. Помимо немедленного иммунного ответа, через несколько дней после травмы повышается количество маркирующих воспаление белков, таких как хемокины (Ccl2 и Ccl7), белки острой фазы (липокалин-2) и тканевой ингибитор металлопротеиназы 1, причем ненормированные показатели некоторых из них сохраняются до месяца [3]. Провоспалительный цитокин, интерлейкин-1β (ИЛ 1β), участвует в сохранении иммунных реакций при различных заболеваниях центральной нервной системы, начиная от рассеянного склероза, нейродегенеративных заболеваний, черепно-мозговой травмы и диабетической ретинопатии [11]. Тогда как наиболее распространенными цитокинами, связанными с неблагоприятными психологическими исходами, пост-травматическим стрессовым расстройством и/или депрессией у пациентов после лЧМТ были названы цитокины ИЛ 6, ИЛ 10 и ФНОα, а также С-реактивный белок [10]. Таким образом, для понимания взаимосвязи между воспалением и развитием патологических изменений нервной ткани после нанесения лЧМТ необходимы исследования состояния иммунного компонента для уточнения степени участия защитных факторов. Исходя из вышеизложенного, целью исследования являлось изучение параметров системного иммунного ответа при экспериментальном моделировании легкой ЧМТ.
Материалы и методы
Эксперимент проводили на половозрелых крысах-самцах Wistar (200-250 г) в соответствии с положениями Хельсинкской декларации и рекомендациями Директивы Европейского сообщества (86/609 Г.С), дизайн исследования одобрен междисциплинарным этическим комитетом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России (№ 3 от 20.09.2017 г.). Для воспроизведения лЧМТ и травмы средней степени тяжести использовали модифицированную нами модель падающего груза, адаптированную для взрослых крыс [3]. Данный способ позволяет воссоздать закрытую травму головного мозга различной степени, возникающую под действием комбинированных сил ударного, трансляционного ускорения и его замедления в результате вращения головы с минимальным контактным воздействием с ударным компонентом. Для общего наркоза крыс применяли золетил (0,003 мг/г, Virbac, Франция), ксиланит (0,008 мг/г, ЗАО «НИТА-ФАРМ», Россия), раствор атропина сульфата (0,1 % – 0.01 мл на 100 г).
Изучали лейкоцитарный профиль и субпопуляции лимфоцитов крови животных в острый период травмы (2 ч., 1-е, 2-е, 3-и, 7-е и 14-е сут. после нанесения лЧМТ). Клинический анализ крови включал определение абсолютного количества лейкоцитов с вычислением лейкоцитарной формулы. Оценку системного иммунитета проводили с выявлением различных субпопуляций лимфоцитов и цитокинов. Мононуклеарные клетки крови животных окрашивали в соответствии со стандартными протоколами и инструкциями производителя коктейлем для выявления различных популяций, включающем специфические для крыс моноклональные антитела PE Mouse Anti-Rat CD3, PE Mouse Anti-Rat CD4, FITC Mouse Anti-Rat CD8b, FITC Mouse Anti-Rat CD11b/c, и PE-Cy™7 Mouse Anti-Rat CD45 (BD Biosciences, США). Субпопуляции клеток определяли методом мультицветной проточной цитометрии, используя автоматический анализатор проточный цитофлуориметр MACSQuant TM Analyzer 10 (Miltenyi Biotec GmbH, Германия), оснащенный тремя диодными лазерами 405, 488 и 638 нм. Данные анализировали, набирая не менее 30000 лейкоцитов в образце. Популяция CD45-PE-Cy™7 меченых лимфоцитов гейтировалась с использованием флуоресцентного канала 720 нм и параметра бокового светорассеяния (SSC). Соответственно, двухпараметровые дот-плоты были созданы для оценки процентного содержания CD3-PE, CD4-PE, CD8-FITC и CD11b-FITC. Обработку цитофлуориметрических данных проводили при помощи программ MACS Quantify™ Softwarev.2.5 (Miltenyi Biotec GmbH, Германия) и Kaluza™ v.1.2 (Beckman Coulter, США).
С помощью метода иммуноферментного твердофазного анализа с применением двух типов моноклональных антител определяли в спинномозговой жидкости и сыворотке крови животных концентрацию цитокинов ФНОα, интерлейкинов 6 и 10. Использовали специфичные для крыс наборы Rat IL-1 beta/IL-1F2, Rat IL-6, Rat IL-10 и Rat TNF-alpha DuoSet ELISA (R&Dsystems, Англия), которые содержали основные компоненты, необходимые для проведения сэндвич-метода. Оптическую плотность раствора в каждой лунке измеряли с помощью спектрофотометра Multiskan Sky Microplate (Termo Fisher, США) при длине волны 450 нм с коррекцией значений 540 нм или 570 нм.
Статистический анализ результатов проводили с помощью Statistica 6.0 (StatSoft, США). В случае нормального распределения значения представлены как среднее значение ± стандартная ошибка среднего (M±m), а данные по группам проанализированы с помощью t-критерия Стьюдента (ненаправленного) и Ньюмана-Кейлса для множественных сравнений. Для корреляции признаков использовали линейный регрессионный анализ с вычислением критерия Пирсона. Различия считались статистически значимыми при P<0,05.
Результаты и обсуждение
Отмечено повышение содержания общей популяции лейкоцитов крови через 2 часа после нанесения травмы, которое в остальные сроки наблюдения снижалось до значения для здоровых животных (6,5±0,21x109 кл/L/, табл. 1). Также через 2 ч. после лЧМТ достоверно повышались показатели количества нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов, что свидетельствовало об активации иммунной системы в ответ на полученную травму. Через 24 ч. эти показатели достоверно снижались, и пик истощения иммунного ответа был зарегистрирован к концу первой недели после ЧМТ (7-е сут.), однако количество эозинофилов было незначительно выше, чем в контрольной группе. К концу 2-й недели показатели достигли контрольных цифр, однако количество незрелых форм нейтрофилов снизилось до 0. Выявлена прямая корреляция между уровнем нейтрофилов и моноцитов, коэффициент Спирмена составил 0,76, связь по шкале Чеддока высокая.
Таблица 1
Показатели содержания популяций клеток в крови крыс
Индикаторы | Контроль (n=10) | Крысы после лЧМТ | ||||
2 ч. (n=5) | 1-е сут. (n=5) | 2-е сут. (n=5) | 7-е сут. (n=5) | 14-е сут. (n=5) | ||
Лейкоциты, x 109/L | 6,5±0,21 | 12,7±0,21 | 6,5±0,21 | 6,5±0,21 | 6,5±0,21 | 6,5±0,21 |
Нейтрофилы, % | 39,1±0,96 | 59,2±1,02 | 28,3±2,5 | 18,7±1,7 | 34,5±2,5 | 36,4±3,3 |
Палочкоядерные, % | 1,9±0,07 | 1,8±0,09 | 0,9±0,03 | 0,09±0,007 | 0,9±0,03 | 0 |
Сегментоядерные, % | 37,2±2,93 | 57,2±4,2 | 27,6±2,5 | 17,5±1,2 | 33,6±3,1 | 36,4±3,1 |
Эозинофилы, % | 2,37±0,258 | 3,9±0,21 | 1,8±0,7 | 1,68±0,5 | 2,8±0,21 | 2,3±0,5 |
Моноциты, % | 2,8±0,33 | 3,2±0,4 | 2,8±0,3 | 1,9±0,3 | 2,1±0,04 | 2,6±0,5 |
CD45+, % | 75,2±5,8 | 73,1±4,8 | 68,1±1,2 | 78,1±6,8 | 77,8±6,1 | 81,2±6,4 |
CD3+, % | 44,3±1,9 | 41,1±3,7 | 39±1,2 | 58±4,2* | 62±4,9* | 68±7,2* |
CD3+CD4+, % | 29,5±2,1 | 28,7±2,7 | 27,9±2,4 | 25,4±1,8 | 18,3±1,7* | 16,7±1,9* |
CD3+CD8+, % | 18,5±0,9 | 22,5±1,6 | 19,6±1,2 | 19,8±1,9 | 39,7±2,9* | 41,3±1,9* |
CD20+, % | 12,6±1,8 | 11,8±1,5 | 14,7±1,2 | 16,2±1,4 | 26,5±1,7 | 32,5±1,6 |
CD16+, % | 8,3±0,8 | 19,3±1,8* | 21,2±1.8* | 18,2±1,3* | 10,1±1,1 | 12,1±1,4 |
CD14+ % | 6,7±0,7 | 4,9±0,4 | 2,8±0,5 | 2,8±0,3 | 4,2±0,3 | 5,1±0,6 |
Примечание: * значения достоверны по сравнению с показателями интактных животных, p <0.05.
В крови травмированных крыс определено незначительное увеличение количества CD45+ клеток по сравнению со здоровыми животными (табл. 1). Определено, что количество Т-клеток (CD3+) уменьшилось через 1 сут. после травмы, затем увеличилось к концу 2-й недели. Содержание Т-хелперов (CD4+) снижалось до 16,7±1,9 % (14 сут.), в то время как число цитотоксических Т-клеток (CD8+), напротив, повышалось с 22,5±1,6 % (2 ч.) до 41,3±1,9 % (14 сут.) соответственно. Корреляционный анализ с вычислением коэффициента Спирмента (ρ) показал, что повышение количества нейтрофилов достоверно сопровождается экспрессией на клетках антигена CD 14 (ρ=0,814), что указывает на превалирование зрелой формы этих клеток (рис. 1). Увеличение же количества незрелых форм нейтрофилов достоверно сопровождалось повышением в кровотоке уровня CD3+CD4+ лимфоцитов (ρ=0,9), которое коррелировало с повышением количества моноцитов (ρ=0,671). Корреляционный анализ свидетельствует о том, что именно моноциты и незрелые формы нейтрофилов имели наибольшую сопряженность с показателями содержания CD3+CD4+ Т-хелперов в кровотоке. Тогда как количество CD3+, CD45+, цитотоксических CD3+CD8+ Т-клеток и CD20+ В-лимфоцитов достоверно снижалось на фоне повышения количества незрелых форм нейтрофилов. Также отмечалось достоверное повышение количества макрофагов на фоне снижения содержания CD3+, CD45+, CD20+ лимфоцитов (p<0.05, табл. 1). Таким образом, стимуляция иммунитета и приход незрелых форм клеток при активации моноцитов оказывает влияние на содержание различных популяций лимфоцитов. Важно отметить, что на 14-й день травмы уровни экспрессии лимфоцитами антигенов CD45+, CD3+, CD3+CD8+, CD20+ имели тенденцию к нарастанию, тогда как общий клеточный профиль приближался к контрольным значениям.
Рис. 1. Корреляция между показателями рецепторов, экспрессируемых на иммунных клетках, и количеством лейкоцитов в крови травмированных животных
Известно, что резидентные макрофаги М1 типа выделяют провоспалительные цитокины – ФНОα и ИЛ 6, которые могут инициировать приток к очагу повреждения Т- и В-лимфоцитов из периферического кровотока. По данным разных исследований, функция ИЛ 6 может меняться в зависимости от посттравматического периода и оказывает регуляторное влияние путем ингибирования синтеза ФНОα. Противовоспалительный интерлейкин 10, который вырабатывают преимущественно макрофаги М2 типа, активирует нейропротективные функции микроглии. Нами установлено, что через 2 ч после лЧМТ показатели провоспалительного ИЛ 6 в сыворотке повышались и оставались на этом уровне до конца 1-х сут. (табл. 2, 45,6±2,03 пг/мл), тогда как на второй день отмечалось его снижение (21,28±1,2 пг/мл). Максимальный уровень отмечен на 7-е сут. (69,38±2,5 пг/мл) при последующем снижении к 14 сут. наблюдения. Количество ИЛ 10 в сыворотке крови через 2 ч. после травмы повышалось до 7,82±0,49 пг/мл при дальнейшем нарастании до 26,06±1,58 пг/мл к концу первой недели, причем на 14-е сут. этот цитокин не зарегистрирован. Таким образом, отмечается картина проградиентного увеличения и последующего истощения продукции клетками ИЛ 10 у травмированных крыс.
Уровень ФНОα в ликворе резко повышался в первый день после нанесения лЧМТ (табл. 2, 139±5,12 пг/мл), затем снижался до 66,3±3,06 пг/мл (7 сут.), оставаясь достоверно выше показателей здоровых животных (p<0.05). В сыворотке крови ФНОα через 1 сут. травмы также резко повышался, но оставался ниже уровня в ликворе (41,8±1,99 пг/мл). Затем следовало снижение до 16,28±0,44 пг/мл на 7-е сут. и резкое повышение до 109,3±0,96 пг/мл на 14 сут. Выявлена сильная корреляция между показателями ФНОα в ликворе и сыворотке крови (ρ=0.657). Не обнаружено связи между уровнем ФНОα в сыворотке и уровнем ИЛ 10 (ρ=-0.214), и ИЛ 6 в сыворотке крови (ρ=0.314) и между уровнем ИЛ 6 и ИЛ 10 (ρ=0.414). Однако между уровнем ФНОα и IL 6 в сыворотке в сочетании со значениями для здоровых животных через 2 ч. и 1 и 2 сут., связь показателей по шкале Чеддока была довольно высока (ρ=0,8). На 7-е и 14-е сут. связь между этими параметрами была отрицательной, что указывало на ингибирующее влияние ИЛ 6 на уровень провоспалительного ФНОα, так как на 14-е сут. на фоне уменьшения показателей ИЛ 6 содержание ФНОα значительно увеличивалось. Данные изменения можно трактовать как вторичную воспалительную реакцию. Что касается уровня ФНОα в ликворе, то его корреляционной зависимости с уровнем ИЛ 6 в сыворотке не выявлено (ρ=0,4). Также стоит отметить, что при снижении показателей противовоспалительного цитокина ИЛ 10 на 14-е сутки повышается уровень ФНОα как в сыворотке, так и в ликворе.
Таблица 2
Показатели уровня интерлейкинов в ликворе и сыворотке крови животных
ФНОα в ликворе, пг/мл | ФНОα в сыворотке крови, пг/мл | IL 10 в сыворотке крови, пг/мл | IL 6 в сыворотке крови, пг/мл | |
Здоровые животные | 21±0,76 | 14,7±0,49 | 0 | 0 |
Легкая черепно-мозговая травма | ||||
2 часа | 8,7±0,27 | 17,87±0,52 | 7,82±0,49 | 34,27±1,83 |
1 сутки | 139±5,12 | 41,8±1,99 | 5,74±0,36 | 45,6±2,03 |
2 суток | 105,26±3,45 | 20,47±1,1 | 18,12±1,14 | 21,28±1,2 |
7 суток | 66,3±3,06 | 16,28±0,44 | 26,06±1,58 | 69,38±2,5 |
14 суток | 72,3±2,22 | 109,29±0,96 | 0 | 38,78±1,1 |
Черепно-мозговая травма средней степени тяжести | ||||
2 часа | 9,89±0,44 | 7,28±0,16 | 0 | 54,35±1,46 |
1 сутки | 62,35±2,38 | 40,4±1,99 | 0 | 25,31±1,25 |
7 сутки | 48,4±1,5 | 12,26±0,38 | 5,83±0,36 | 47,67±2,07 |
Примечание: значения достоверны по сравнению с показателями интактных животных, p<0.05.
При ЧМТ средней степени тяжести через 2 ч. уровень ИЛ 6 в сыворотке крови животных был значительно выше, чем при лЧМТ (табл. 2, p<0.05), снижаясь к окончанию первых суток. Затем показатели этого цитокина повышались, оставаясь значимо ниже таковых при нанесении лЧМТ (р<0,05). Содержание ФНОα в сыворотке крови при ЧМТ средней степени тяжести имело аналогичную динамику показателей, как при лЧМТ, а количество этого цитокина в ликворе было значимо ниже (р<0.05). Степень корреляции между показателями ФНОα в ликворе и сыворотке крови при ЧМТ средней степени была выше, чем при лЧМТ (ρ=0,8), также обнаружена высокая обратная связь между уровнем ФНОα и ИЛ 6 (ρ=0,8), причем тенденция изменений и связи этих параметров при лЧМТ легкой и травме средней тяжести не отличалась. Не установлена связь между уровнем ФНОα и ИЛ 10, а также содержанием ИЛ 6 и ИЛ 10. Обнаружена слабая обратная связь между содержанием ФНОα в ликворе и ИЛ 6 в сыворотке (ρ=0,4), что указывает на снижение ФНОα на фоне повышающегося уровня ИЛ 6. Таким образом, при моделировании лЧМТ и травмы средней степени изменение показателей цитокинов было аналогичным. Уровень ФНОα в ликворе при всех видах травмы был максимальный через сутки и проградиентно снижался ко 2-й неделе, что указывало на его появление в спинномозговой жидкости, связанное с ударным воздействием на головной мозг.
В настоящее время существует широкий спектр экспериментальных моделей лЧМТ, которые различаются по типу анатомии нанесенных повреждений головного мозга. Нейтрофилы и Т-клетки инфильтрируют в очаг повреждения головного мозга при значительном повышении их содержания уже через 1 сут. после ЧМТ, но их роль в патогенезе нейровоспаления находится на стадии интенсивного изучения [7]. Показана сопряженность изменения показателей содержания различных цитокинов, в том числе ФНОα и ИЛ 6, при некоторых типах когнитивной дисфункции мышей при моделировании закрытой ЧМТ с повреждением аксонов на фоне отсутствия структурных повреждений головного мозга, гематоэнцефалического барьера или отека [8, 10]. Причем снижение количества активных клеток микроглии и нейтрофилов коррелирует с улучшением когнитивной функции крыс. Тем не менее остаются серьезные разногласия по поводу роли нейтрофилов и Т-клеток в развитии нейровоспаления, поскольку, в отличие от очаговых повреждений, эти клетки отсутствуют в случае традиционного моделирования неосложненной (неочаговой) лЧМТ [7]. Также аутореактивные Т-клетки могут оказывать защитное и в первую очередь противовоспалительное действие после повреждения [15].
Результаты нашего исследования доказывают наличие нейроиммунных патологических процессов, которые коррелируют с изменениями клеточных компонентов в кровотоке при экспериментальной ЧМТ. Первичный ответ на травму через сутки выражался в увеличении лейкоцитов, в том числе цитотоксических Т-лимфоцитов, тогда как количество остальных субпопуляций клеток уменьшалось. Этот процесс сопровождался зарегистрированным повышением в ликворе и периферическом кровотоке содержания провоспалительных цитокинов ФНОα и ИЛ 6. В совокупности эти данные указывают на инициацию нейровоспалительной реакции при нанесении лЧМТ, которая продолжает нарастать через 2 сут., когда у травмированных животных отмечается значимое снижение количества нейтрофилов, особенно незрелых форм, моноцитов и эозинофилов. На фоне изменения содержания клеток уровень ФНОα в ликворе и периферическом кровотоке начинает снижаться, тогда как содержание противовоспалительного, напротив, ИЛ 10 увеличивается. Через 7 и 14 сут. в кровотоке повышается количество цитотоксических CD3+CD8+ Т-лимфоцитов и ИЛ 6 и 10. При этом появляется тенденция к повторному увеличению ФНОα в ликворе и сыворотке, уровень которого возрастает к 14 сут. значительно, тогда как содержание ИЛ 6 и ИЛ 10 падает. Таким образом, к концу 2-й недели после ЧМТ воспалительная реакция не снижается, а появляются признаки ее повторного развертывания.
About the authors
Ivan V. Rad’kov
Pacific State Medical University
Email: cytokines@yandex.ru
graduate student
Russian Federation, 690002, Vladivostok, Ostryakov Ave. 2Natalia G. Plekhova
Pacific State Medical University
Author for correspondence.
Email: pl_nat@hotmail.com
doctor of biological sciences, head of the Central research laboratory
Russian Federation, 690002, Vladivostok, Ostryakov Ave. 2Sergey V. Zinoviev
Pacific State Medical University
Email: cytokines@yandex.ru
candidate of medical sciences, senior researcher
Russian Federation, 690002, Vladivostok, Ostryakov Ave. 2Valentin B. Shumatov
Pacific State Medical University
Email: cytokines@yandex.ru
doctor of medical sciences, professor, rector
Russian Federation, 690002, Vladivostok, Ostryakov Ave. 2References
- Колесникова А.А., Флейшман М.Ю., Якушева Н.Ю., Слободенюк Е.В., Толстенок И.В. Уровень окислительного стресса в ткани мозга крыс после черепномозговой травмы при введении синтетических регуляторных пептидов // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2020. – Т. 3. – С. 65-67. Kolesnikova A.A., Fleishman M.Yu., Yakusheva N.Yu., Slobodenyuk E.V., Tolstenok I.V. [The level of oxidative stress in rat brain tissue after a brain trauma injury with introduction of synthetic regulatory peptides] // Pacific Medical Journal. 2020. Vol. 3. P. 65-67. (Russian)
- Мамытова Э.М., Майназарова Э.С., Жусупова А.Т. Особенности иммунных нарушений в остром периоде черепно-мозговой травмы // Вестник КРСУ. – 2014. – Т. 14, № 4. – С. 120–123. Mamytova E.M., Mainazarova E.S., Zhusupova A.T. Features of immune disorders in the acute period of traumatic brain injury // Vestnik KRSU. 2014. T.14. No. 4. P.120–123.
- Плехова Н.Г., Зиновьев С.В., Дюйзен И.В., Барышев А.Н., Шуматов В.Б. Поведенческая реакция животных и морфологическая структура неокортекса при экспериментальной черепно-мозговой травме лёгкой степени // Бюлл. эксп. биол. и мед. – 2020. – Т. 170, № 11. – С. 640-645. Plekhova N.G., Zinoviev S.V., Duizen I.V., Baryshev A.N., Shumatov V.B. Behavioral response of animals and morphological structure of the neocortex in mild experimental traumatic brain injury // Bull. Experim. Biol. Med. 2020. Vol.170. No.11. P. 640-645
- Almeida-Suhett C.P., Li Z., Marini A.M., Braga M.F., Eiden L.E. Temporal course of changes in gene expression suggests a cytokine-related mechanism for long-term hippocampal alteration after controlled cortical impact // J. of neurotrauma, 2014. Vol. 31(7). P. 683–690.
- Chen Y., Wang Y., Xu J., Hou T., Zhu J., Jiang Y., Sun L., Huang C., Sun L., Liu S. Multiplex assessment of serum chemokines CCL2, CCL5, CXCL1, CXCL10, and CXCL13 following traumatic brain injury // Inflammation. 2022. https://doi.org/10.1007/s10753-022-01729-7
- Clausen F., Lorant T., Lewén A., Hillered L. T lymphocyte trafficking: a novel target for neuroprotection in traumatic brain injury // J. Neurotrauma. 2007. Vol. 24(8) P. 1295-307.
- Ekmark-Lewén S., Flygt J., Kiwanuka O., Meyerson B.J., Lewén A., Hillered L., Marklund N. Traumatic axonal injury in the mouse is accompanied by a dynamic inflammatory response, astroglial reactivity and complex behavioral changes // J. of neuroinflammation, 2013. Vol. 10. P. 44-48.
- Howell D.R. Southard J. The molecular pathophysiology of concussion // Clin. Sports Med. 2021. Vol. 40. P. 39–51.
- Kokiko-Cochran O.N., Godbout J.P. The inflammatory continuum of traumatic brain injury and Alzheimer’s disease // Front. Immunol. 2018. Vol. 9. P. 672-679.
- Malik S., Alnaji O., Malik M., Gambale T., Rathbone M.P. Correlation between mild traumatic brain injury-induced inflammatory cytokines and emotional symptom traits: a systematic review // Brain sciences. 2022. Vol. 12(1). P. 102-110.
- Mendiola A.S., Cardona A.E. (). The IL-1β phenomena in neuroinflammatory diseases // J. neural transmission (Vienna, Austria). 2018. Vol. 125(5). P. 781–795.
- Postolache T.T., Wadhawan A., Can A., Lowry C.A., Woodbury M., Makkar H., Hoisington A.J., Scott A.J., Potocki E., Benros M.E., Stiller J.W. Inflammation in traumatic brain injury // J. Alzheimers Dis. 2020. Vol. 74(1). P. 1-28.
- Rathbone A., Tharmaradinam S., Jiang S., Rathbone M.P., Kumbhare D. A review of the neuro- and systemic inflammatory responses in post concussion symptoms: Introduction of the “post-inflammatory brain syndrome” // PIBS. Brain Behav. Immun. 2015. Vol. 46. P. 1–16.
- Redell J.B., Moore A.N., Grill R.J., Johnson D., Zhao J., Liu Y., Dash P.K. Analysis of functional pathways altered after mild traumatic brain injury // J. neurotrauma, 2013. Vol. 30(9). P. 752–764.
- Schenkel J.M., Masopust D. Tissue-resident memory T cells // Immunity. 2014. Vol. 41(6). P. 886-897.
- Weisel F., Shlomchik M. Memory B cells of mice and humans // Annu. Rev. Immunol. 2017. Vol. 35. P. 255-284.
Supplementary files