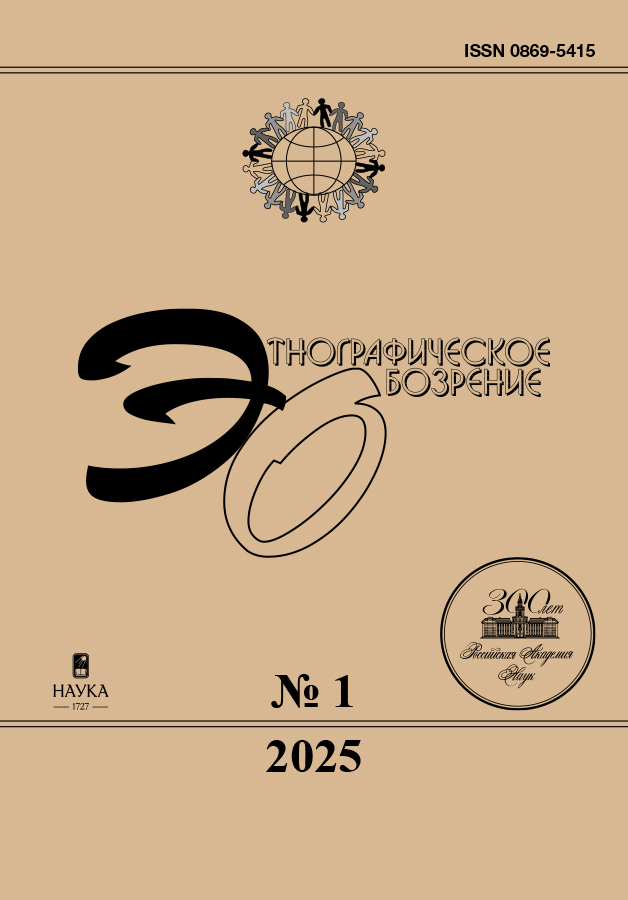On the History of Developing the Foundations of Sources and Historiography for Research on Everyday Life of Bolshevik Elites [K istorii skladyvaniia istochnikovoi i istoriograficheskoi bazy dlia izucheniia povsednevnosti bol’shevistskoi elity].
- Autores: Pushkareva N.L.1, Generalova S.V.1
-
Afiliações:
- Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
- Edição: Nº 1 (2025)
- Páginas: 160-176
- Seção: Research Articles
- URL: https://cijournal.ru/0869-5415/article/view/683039
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541525010088
- EDN: https://elibrary.ru/URMMUM
- ID: 683039
Citar
Texto integral
Resumo
The everyday life of Bolshevik elites had remained for many decades a subject avoided in Soviet research both due to the political and ideological restrictions and the scarcity of the source base that formed under their influence. In connection with the recent anthropological turn in the Russian humanities and the keen interest in the history of everyday life (a branch of historical knowledge that focuses on studying the lifestyle of social groups, the evolution of the inner world of individuals and their relationships with various objects and events), we consider it important to draw attention to the history of development of the empirical and historiographical base for research on the life of Bolsheviks in the 1920s–1930s. We qualify the early stage of development of the Soviet historiography (1920s–1940s) as a period of ignoring the topic of the life of elites, which had to do with an unspoken ban put on discussing the living conditions of the top representatives of the Soviet society. We take the second period (1950s–1980s) – the time of the birth of ethnographic interest in the everyday and ordinary in city life – to be the years of “discovery of the topic”. Finally, we associate the third period with the years of stagnation and the beginning of Perestroika. We characterize the active translation of works by foreign researchers on everyday life and the formation of a shared collaboration space with Western scholars (from the early 1990s to the present) as essential prerequisites for understanding the relationship between the social/political transformation of the Soviet/post-Soviet period and the politics of memory, including the memory of the social establishment of the Soviet society during the period of the “great Bolshevik experiment”.
Texto integral
Sobre autores
Natalia Pushkareva
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
Autor responsável pela correspondência
Email: pushkarev@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-6295-3331
д. и. н., профессор, главный научный сотрудник, руководитель центра гендерных исследований
Rússia, MoscowSvetlana Generalova
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
Email: generalova_s69@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-6021-6688
аспирант центра гендерных исследований
Rússia, MoscowBibliografia
- Abramova, A.A. 1954. Okhrana trudovykh prav zhenshchin v SSSR [Protection of Women’s Labor Rights in the USSR]. Moscow: Gosiurizdat.
- Antsyferova, L.I. 1993. Psikhologiia povsednevnosti, zhiznennyi mir lichnosti i “tekhniki” ee bytiia [Psychology of Everyday Life, the Life World of a Personality and the “techniques” of Its Being]. Psikhologicheskii zhurnal 14 (2): 8–17.
- Aralovets, N.D. 1954. Zhenskii trud v promyshlennosti SSSR [Women’s Labor in Industry of the USSR]. Moscow: Profizdat.
- Balbyshkin, Y.A. 2003. Partiino-gosudarstvennaia deiatel’nost’ L.B. Kameneva v 1901–1936 gg. [Kamenev’s Party and State Activities in 1901–1936]. PhD diss., Moscow Pedagogical State University.
- Bessmertnyi, Y.L., ed. 1996. Chelovek v krugu sem’i: ocherki po istorii chastnoi zhizni v Evrope do nachala Novogo vremeni [A Man in the Family Circle: Essays on the History of Private Life in Europe before the Beginning of Modern Times]. Moscow: Izdatel’stvo RGGU.
- Bilshai, V.L. 1948. Sovetskaia demokratiia i ravnopravie zhenshchin v SSSR [Soviet Democracy and Equality of Women in the USSR], edited by I.T. Goliakov. Moscow: Izdatel’stvo i tipografiia Yuridicheskogo izdatel’stva.
- Bogoslovskaia, M.V. 2007. Sovetskaia gosudarstvennaia elita 1920-kh gg.: mekhanizm formirovaniia i sistema naznachenii [The Soviet State Elite of the 1920s: The Mechanism of Formation and the System of Appointments]. PhD diss. abstract, Russian State Humanities University.
- Chigir, O.S. 2009. Grigorii Yakovlevich Sokol’nikov: lichnost’ i deiatel’nost’ [Grigory Yakovlevich Sokolnikov: Personality and Activity]: PhD diss. abstract, Mordovia State University.
- Carrere d’Encausse, H. 2022. Aleksandra Kollontai. Val’kiriia revoliutsii [Alexandra Kollontai: Valkyrie of the Revolution]. Moscow: AFK “Sistema”; Politicheskaia entsiklopediia.
- Fitzpatrick, S. 2008. Povsednevnyi stalinizm. Sotsial’naia istoriia Sovetskoi Rossii v 30-e gody: gorod [Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s]. Moscow: ROSSPAN.
- Gurova, O.Y. 2008. Sovetskoe nizhnee bel’e: mezhdu ideologiei i povsednevnost’iu [Soviet Underwear: Between Ideology and Everyday Life]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Igumnova, Z.P. 1958. Zhenshchiny Moskvy v gody Grazhdanskoi voiny [Women of Moscow during the Civil War]. Moscow: Moskovskii rabochii.
- Izmozik, B.C., and N.B. Lebina. 2001. Zhilishchnyi vopros v bytu leningradskoi partiino-sovetskoi nomenklatury 1920–1930-kh godov [The Housing Issue in the Everyday Life of the Leningrad Party-Soviet Nomenklatura of the 1920–1930s]. Voprosy istorii 4: 98–110.
- Izmozik, B.C., and N.B. Lebina. 2010. Peterburg sovetskii: “novyi chelovek” v starom prostranstve. 1920–1930-e gody. (Sotsial’no-arkhitekturnoe mikroistoricheskoe issledovanie) [Soviet Petersburg: “New Man” in the Old Space, the 1920s and 1930s (Socio-Architectural Microhistoric Research)]. St. Petersburg: Kriga.
- Klots, A.R. 2012. Domashniaia prisluga kak sotsial’nyi fenomen epokhi stalinizma [Domestic Servants as a Social Phenomenon of the Stalinist Era]. PhD diss. abstract, Chelyabinsk State University.
- Krasilnikov, S.A., and A.G. Tepliakov. 2016. “Ekonomicheskaia kontrrevoliutsiia”: kak konkurirovali dva chekistskikh upravleniia v 1930–1931 gg. [“Economic Counterrevolution”: How Two Chekist Administrations Competed in 1930–1931]. Klio 9 (117): 103–114.
- Kuznetsova, L.V. 1987. N.K. Krupskaia – vidnyi partiinyi organizator narodnogo obrazovaniia (1917–1925 gg.) [Krupskaya – a Prominent Party Organizer of Public education (1917–1925)]. PhD diss. abstract, The Lenin Moscow State Pedagogical Institute.
- Lachaeva, M.Y., ed. 2004. Istoriografiia istorii Rossii do 1917 g.: uchebnik dlia studentov vysshikh uchebnykh zavedenii: V 2 t. [Historiography of the History of Russia before 1917: Textbook for Students of Higher Educational Institutions, 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Gumanitarnyi izdatel’skii tsentr VLADOS.
- Lebina, N.B., and A.N. Chistikov. 2003. Obyvatel’ i reformy: kartiny povsednevnoi zhizni gorozhan v gody NEPa i khrushchevskogo desiatiletiia [The Philistine and Reforms: Pictures of the Everyday Life of Townspeople during the NEP and the Khrushchev Decade]. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin.
- Leybovich, O.L. 2016. Sotsialisticheskii zavod v kollektivnoi pamiati gorozhan (po materialam Permi) [Socialist Factory in a Collective Memory of the Citizen (on the Materials of Perm)]. Ural’skii istoricheskii vestnik 3 (52): 36–42.
- Manbekova, S.U. 1984. Formirovanie marksistskogo mirovozzreniia i nachalo revoliutsionnoi deiatel’nosti N.K. Krupskoi [The Formation of the Marxist Worldview and the Beginning of the Revolutionary Activities of N.K. Krupskaya]. PhD diss. abstract, Moscow Institute Marxism-Leninism.
- Mazur, L.N. 2016. Sem’ia kommunistov Ekaterinburgskoi gubernii (po materialam Vserossiiskoi partiinoi perepisi 1922 g.) [The Family of Yekaterinburg Governorate Communists (with Reference to the 1922 All-Russian Party Census)]. Izvestiia UrFU. Seriia 2. Gumanitarnye nauki 18 (3): 85–105. https://doi.org/10.15826/izv2.2016.18.3.045
- Mikhalutina, D.K. 1959. Propagandistskaia i revoliutsionnaia deiatel’nost’ N.K. Krupskoi v period 1890–1900 godov (materialy k nauchnoi biografii) [Propaganda and Revolutionary Activities of N.K. Krupskaya in the Period 1890–1900 (Materials for a Scientific Biography)]. PhD diss., Moscow State University.
- Mokhov, V.P. 1998. Evoliutsiia regional’noi politicheskoi elity Rossii (1950–1990 gg.) [The Evolution of the Regional Political Elite of Russia (1950–1990 gg.)]. PhD diss. abstract, State Academy of Household and Services.
- Obichkin, G.D., et al. 1988. Nadezhda Konstantinovna Krupskaia: biografiia [Nadezhda Konstantinovna Krupskaya: Biography]. Moscow: Politizdat.
- Osokina, E.A. 1998. Raspredelenie i rynok v snabzhenii naseleniia SSSR v gody pervykh piatiletok, 1928–1941 [Distribution and Market in Supplying the Population of the USSR during the Years of the First Five-Year Plans, 1928–1941]. PhD diss. abstract, Moscow Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences.
- Ovsiannikova, M.D. 1954. Fakty i tsifry o polozhenii zhenshchin v SSSR i zarubezhnykh stranakh [Facts and Figures about the Situation of Women in the USSR and Foreign Countries]. Moscow.
- Parfenenko, N.D. 1972. Partiinaia i gosudarstvennaia deiatel’nost’ N.K. Krupskoi. (Aprel’ 1917 – yanvar’ 1924 gg.) [Party and State Activities of N.K. Krupskaya (April 1917 – January 1924)]. PhD diss., Kiev State University.
- Petrov, G.D. 1973. Politicheskaia i nauchno-publitsisticheskaia deiatel’nost’ A.M. Kollontai v gody pervoi mirovoi voiny i podgotovki Velikogo Oktiabria (avgust 1914 g. – oktiabr’ 1917 g.) [Political and Scientific-Journalistic Activities of A.M. Kollontai during the First World War and the Preparation of the Great October Revolution (August 1914 – October 1917)]. PhD diss., Moscow State Historical and Archival Institute.
- Pushkareva, N.L. 1996. Zhenskaia istoriia v Rossii: prioritety, napravleniia, metody [Women’s History in Russia: Priorities, Directions, Methods]. Zhenshchina v rossiiskom obshchestve 4: 11–24.
- Pushkareva, N.L. 1998. Feminologiia i “istoriia zhenshchin” v kontekste problem gumanitarnogo znaniia [Feminology and the “History of Women” in the Context of Problems of Humanitarian Knowledge]. In Zhenshchiny Rossii na rubezhe XX–XXI vv. [Women of Russia at the Turn of the XX–XXI Centuries], edited by O.A. Khasbulatova, 8–13. Ivanovo: IvGU.
- Pushkareva, N.L. 2005. “Istoriia povsednevnosti” i etnograficheskoe issledovanie byta: raskhozhdeniia i peresecheniia [Everyday Life through the Eyes of Ethnologists]. Glasnik Etnografskogo instituta SAN 53: 21–34.
- Shebzukhova, T.A. 2021. Sakral’nost’ vlasti v russkoi imperskoi traditsii [The Sacredness of Power in the Russian Imperial Tradition]. Voprosy elitologii 2 (3): 31–55. https://doi.org/10.46539/elit.v2i3.71
- Shulchev, A.I. 1952. Obshchestvenno-pedagogicheskaia deiatel’nost’ N.K. Krupskoi v 80–90-kh gg. XIX veka [Social and Pedagogical Activities of N.K. Krupskaya in the 80–90s XIX Century]. PhD diss. abstract, Moscow Research Institute of Theory and History of Pedagogy of the Academy of Pedagogics.
- Smorodina, Z.N. 1972. Gosudarstvennaia deiatel’nost’ N.K. Krupskoi (oktiabr’ 1917–1920 gg.) [State Activities N.K. Krupskaya (October 1917–1920)]. PhD diss. abstract, Moscow State Historical and Archival Institute.
- Us, A.P. 1950. Chto dala sovetskaia vlast’ zhenshchinam [What Did the Soviet Government Give to Women]. Minsk: Gosizdat BSSR.
- Yarmakhov, B.B. 1994. Povsednevnost’ kak problema germenevtiki [Everyday Life as a Problem of Hermeneutics]. PhD diss. abstract, Nizhnii Novgorod State Academy of Architecture and Civil Engineering.
Arquivos suplementares